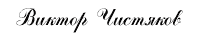|
Юрий Энтин о Викторе Чистякове.
«В Москве перед Виктором открылись
огромные перспективы...»
Часть 2.
|
Второе мое открытие — Алексей Рыбников. Впервые услышав
его произведения, я позвонил ему и в какой-то степени также стал
его продюсером. Долго настаивал на том, чтобы Марк Захаров
послушал Рыбникова, а Марк тогда, после «Тиля», никакого другого
композитора, кроме Геннадия Гладкова, знать не хотел.
Гладков был моим ближайшим другом, и я стал интриговать
против своего ближайшего друга, настаивать, чтобы Захаров
послушал музыку Рыбникова и пригласил именно его, в то время
никому не известного композитора. В течение месяца уговаривал и
наконец уговорил. Благодаря «Звезде и смерти Хоакина Мурьеты»,
«Юноне и Авось» он стал широко известен, потом Марк Захаров
пригласил Рыбникова и в кино, где Алексей написал музыку к
фильму «Тот самый Мюнхгаузен». Я же написал с Рыбниковым
«Приключения Буратино», много известных мультфильмов,
например, «Волк и семеро козлят на новый лад».
И таких открытий у меня, наверное, еще десяток. Например,
певец Геннадий Трофимов, который записал главные партии на
пластинках «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось»,
стал актером Театра Ленинского комсомола, объездил с театром весь
мир. А я его увидел в ресторанчике под Сухуми, где он пел для пяти
случайных посетителей. К тем людям, которым я помог обрести имя,
можно отнести и композитора Владимира Шаинского.
— С Чистяковым тоже могло бы случиться открытие в
мультипликации?
— Мне казалось, абсолютно все шло к этому. Его невероятно
полюбили многие режиссеры. Рыбников специально для него
написал несколько номеров, Геннадий Гладков задумал вторую
серию «Бременских музыкантов». У него могла получиться очень
интересная карьера, во-первых, в мультипликации, во-вторых, на радио,
в грамзаписи. Тогда было очень
модным делать радиопередачи, их слушала вся страна, тогда куда
больший вес имела грамзапись. Я же все восемь лет был
заведующим редакцией фирмы «Мелодия», ушел оттуда в 69-м,
написав «Бременских музыкантов», но там все равно оставались мои
люди, и мне казалось, проблем здесь у Чистякова не будет.
Я и свою дальнейшую творческую деятельность связывал с ним,
мечтал написать сценарий нескольких кинофильмов специально для
него. И мы с ним вместе искали, перебирали темы, что именно он
мог бы сыграть в кино. Я почему-то верил в него как в киноактера
больше, нежели в актера драматического. Он даже по характеру
больше соответствовал кинематографу — опаздывал, был
недисциплинирован, не любил репетиционный процесс, в нем не
было такого мхатовского отношения к профессии. Я наблюдал,
скажем, Бориса Николаевича Ливанова в жизни, так как я дружил с
Василием Ливановым. Несмотря на некие загулы, которые бывали у
Бориса Николаевича (а у Вити их не было никогда), тем не менее
Ливанов в день премьеры думал только о спектакле,
сосредоточивался, входил в роль, подбирал грим. Ничего подобного
у Вити не было. Кино и эстрада были ближе ему, тут он купался,
чувствовал себя абсолютно свободно.
И в мотивации его переезда в Москву, мне казалось, моя роль
была значительна. Я объяснял ему, что здесь есть «Мосфильм», есть
«Союзмультфильм», есть Мосэстрада, здесь, наконец, есть его автор,
которым вызвался быть я, ставший еще и в какой-то степени его
продюсером.
— Говорили, что чуть ли не сама Фурцева обещала в Москве
ему помочь, какой-то театр дать...
— Ничего похожего даже намеком не было. Была полная
невостребованность, как обычно в нашей стране, был полный
неинтерес. Когда я пробовал устроить его в театр, то никто из
властей не помогал. Кстати, я предлагал его и в театр Марка
Захарова, но тот категорически отверг это предложение, сказав, что
он видит, что Чистяков — нетеатральный артист. Такой слух насчет
Фурцевой и ее поддержки ни на чем не основан, его мог породить
только человек, не знающий ситуации. Да, Чистяков был популярен
у публики, но не более, никаких званий у него не было, и не грозило
ему это, а тогда было важно звание. Чтобы человеку дали театр,
нужно было начать хотя бы со звания. Но до этого было очень
далеко. Поведение его вне театра было непредсказуемым. Он был
очень неуживчивым. Все мои знакомые удивлялись: как я могу с ним
дружить? У него не было друзей в эстраде. Наоборот, со всех сторон
я слышал отрицательные отзывы.
Это его возбужденное состояние перед началом выступления
многими принималось за какое-то пижонство. Могла, например,
быть обижена та самая дама, которая выступала с попугаем, или те
же балерины, к которым он влетал, срывая крючок. И так далее. Да,
на мой взгляд, это было мило и незлобиво, совершенно не
продиктовано зазнайством, однако считалось, что у Чистякова
звездная болезнь, его многие недолюбливали, не понимали, он был
одинок. Никаких театральных связей у него не было, никаких ролей
не было, поэтому его не могли знать в театральном мире. У нас же
вообще ужасная система: если человек — эстрадный артист, на нем
торопятся поставить крест как на театральном актере. Я это в какой-
то степени и на себе испытал:
ни один человек не воспринимал меня как сценариста даже после
того, как я написал десяток сценариев, но все продолжали считать,
что я автор песен, и только. Ко мне приклеилось амплуа автора
песен, а сценаристом я, выходит, был так, по недоразумению. У Вити
же было амплуа пародиста, а пародия для многих всегда считалась
низким жанром. Тот же Геннадий Хазанов резко разочаровался в
пародиях и сам часто произносил монологи передо мной, что это
низкий жанр, что он жалеет о том, что потратил на это несерьезное
занятие годы.
— Хотел ли Виктор петь своим голосом?
— Такая мечта у него была. Он говорил: «Я не знаю, кто я. Не
знаю, какой у меня голос». Но у него ничего не получалось, даже
отдаленно не получалось в тех пробах, которые мы делали дома. Это
было совершенно ни на что не похоже, но Витя все время сбивался
на пародийность. У него же не было никакой певческой школы,
часто болели связки, он страшно мучился.
Вопрос сложный, но, мне кажется, своим голосом петь у него бы
не получилось. У него как бы и не было своего голоса, он точно не
понимал — кто он, откуда? Конечно, человеку двадцать восемь лет
было, и, вполне возможно, он бы и сам запел, но не было на то
особых предпосылок. Кроме того, у него была просто природа
пародийная, он в жизни-то ни секунды не находился в своем образе.
Хотя глаза его были грустными. После концерта, отработав свой
двадцатичетырехминутный номер, он приходил за кулисы с лицом
белого цвета, было страшно смотреть, он не мог сказать ни одного
слова, сидел и молчал. Был такого белого цвета, что казалось, он
просто больной. Это был смертельный номер — так он работал. А
потом начинал отходить, розоветь, приходить в себя, и все
возвращалось на круги своя. Не сразу, как будто его замораживали,
и потом это на глазах отходило. Все давалось ему немыслимым усилием, причем
прежде всего духовным усилием, потому что в этом перевоплощении
он видел какой-то определенный настрой, какое-то уникальное
состояние.
— Почему все-таки ни до него, ни после не было пародиста
такого уровня? Ведь с появлением Чистякова даже мода возникла на
этот жанр, а ушел он, и через какое-то время мода сошла. Можно ли
сказать, что он был гений пародии?
— Я в этом убежден. Это был именно гений пародии! У тех, кто
с ним общался, даже сомнений в этом не возникало, потому что в
какие-то моменты было даже страшновато. Когда он один в один
пел, допустим, Анну Герман, то было что-то в этом даже
патологическое, становилось немножко страшно. Восхищение и
страх! А ведь, казалось бы, подражание — простая вещь. В юморе
считается низким жанром каламбур, в эстраде такое же место
традиционно отводили пародии. Подумаешь, великое искусство —
подражать?! Но у него это получалось гениально. Я помню передачу
радиостанции «Юность», где прокрутили запись куплета песни в
исполнении Майи Кристалинской, а затем — в исполнении Виктора
Чистякова, и дальше предложили слушателям определить и написать
письма: какой же куплет поет Кристалинская, а какой — Витя? И
люди не могли угадать! В том числе и я не мог, знавший прекрасно
его манеру, технику, его интонации. Просто невозможно было
отличить: один в один Кристалинская! Особенно удавались ему
женские голоса или, может быть, они просто казались большим
чудом. Он мог схватывать совершенно разные манеры. Ну, скажем,
Кристалинская, Козловский и Том Джонс. Жалко, что его Том Джонс
не был нигде записан, так как Витя просто не знал, что делать с ним.
Просто повторять было бессмысленно, не придумали мы номер, а
русский текст петь Тому Джонсу было бы какой-то натяжкой.
Когда он занимался своим переездом, обменом, я помогал ему
активно, мы каждый день перезванивались, и я ему одолжил денег
— на переезд, на первое время. Я сказал: «Не спеши, отдашь эти
деньги, когда они у тебя появятся!» И вот вдруг неожиданно звонит
Витя и говорит: «У меня деньги появились, хочу отдать тебе долг».
Привез мне пачку денег, положил на стол, сказал: «Мне стало
легче, я свободен, больше ты не мой учитель!», то есть началось
обычное наше веселье. Мне тоже было приятно, что его
финансовые дела поправились. Мы сидели, веселились до двух
часов ночи, а назавтра в десять утра, по-моему, в десять тридцать
восемь, самолет вылетал в Харьков на празднование двадцатипятилетия
местной оперетты. Так как я играл роль его воспитателя, то очень резко,
возмущенно требовал, чтобы он прекратил эти
поездки, полеты, погоню. На двадцатипятилетие Харьковской
оперетты, по-моему, ему обещали заплатить двадцать пять рублей. Я
даже говорил: «Давай я тебе заплачу! Только не летай, потому что ты
просто себя истощаешь. Нельзя бесконечно делать одно и то же, тем
более тебе так трудно. Готовься к своим мультипликационным ролям,
давай поговорим лишний раз спокойно, без суеты, будет полезно
подумать о тетке Чарлея, и вообще нельзя такое количество
концертов давать!» Я даже угрожал ему! И он мне тогда поклялся,
что это будет в последний раз, что больше он не будет летать, просто
сейчас надо немного заработать.
Где-то в два часа ночи он от нас ушел, поймал такси и уехал в
общежитие, а потом в три часа позвонил: «Я забыл у вас очки». Уж не
помню, он вообще очков не носил, наверное, это были какие-то
темные очки. Витя сказал, что по дороге на аэродром он завтра
заскочит на такси к нам за очками. Мы жили на Балаклавском
проспекте, и во Внуково нужно было ехать мимо нас. Мы встали в
девять утра, несмотря на то, что поздно легли, и, зная, что он всегда
опаздывает, налили кофе (крепкий кофе он обожал, это был для него
как наркотик, он постоянно его пил, и никогда не успевал
позавтракать), сделали даже какие-то бутербродики, чтобы Витя
перекусил на ходу. Стали ждать. Десять часов — его нет. Позвонили
Наташе, которая сказала, что, скорей всего, он опоздал, потому что он
проспал, встал поздно, не позавтракал, выскочил и помчался в
аэропорт: «Не знаю, успеет или нет, но, по-моему, не должен успеть»,
— сказала Наташа.
Ну, не успел — так не успел. Прошло какое-то время, часов в
двенадцать — в час она нам позвонила: «Странно! Ничего не
понимаю! Сейчас мне позвонили из Харькова и сказали, что самолет
вроде не приземлился, что Вити нет». Звонили устроители его
гастролей. На это я сказал, что раз он опаздывал, то, скорей всего,
полетит другим самолетом. Подумал, что это все ерунда, не придал
никакого значения. Но через некоторое время Наташа снова
позвонила и сказала, что все это очень подозрительно, ей вновь из
Харькова позвонили и сказали, что не только Виктор, но и все другие
артисты, которых ждали, не прилетели. Мы почувствовали в ее голосе
тревогу, сели на машину и примчались. Стали думать: что делать,
куда звонить? Появился Хазанов. Кто-то нам объяснил, что нужно
звонить в аэропорт и говорить кодовую фразу: «Нет ли замечаний по
рейсу?» Тогда нам ответили, что замечания есть. У нас началась
паника. Мы все почувствовали недоброе. Вскоре пришло сообщение,
что самолет разбился.
Потом ждали из Харькова урну, какие-то документы. Наташа
поехала в Ленинград, а эту урну мы везли вместе с Хазановым. Ехали
вчетвером — я с Мариной и Геннадий со Златой.
Дальше наша любовь к Вите перенеслась на Наташу, но с ней
случилось что-то трудно объяснимое. Бардин рассказывал, что она
стала заниматься спиритизмом ежедневно, и за его стенкой
возникали скандалы, она все время вела диалог с Виктором, причем
это было так навязчиво, что, помню, Гарик говорил, что и ему уже
начинало казаться, что Витя Наталье что-то отвечает, он якобы даже
слышал его голос...
Этот последний день запомнился невероятно. Наташа говорила,
что когда Витя пришел домой, то еще долго не спал. Как раз в эти
дни фотограф дал ему огромную пачку фотографий, и он их стал
зачем-то подписывать, на обратной стороне. Наташа говорила:
«Ложись спать! Успеешь еще подписать!» С ее слов, он ответил: «Не
мешай, я знаю, что делаю», и в этом Наталья тоже усматривала
элемент предчувствия. Пока последнюю фотографию ни подписал,
не лег.
Похороны Вити были такими, что других таких, пожалуй, я и не
припоминаю в своей жизни. Кроме похорон Сталина, в которых я
участвовал, даже попал в жуткий людской водоворот на Трубной
площади. В Ленинграде, на Моховой, был огромный поток людей,
признаюсь, я был поражен таким количеством поклонников. Я уже не
помню, кто и что рассказывал на Витиных поминках. По просьбе знакомых
я вновь рассказал о его розыгрыше по телефону, каждый
вспоминал какие-то свои случаи. И это было так смешно, нельзя
было сдержаться. Даже его мама Валентина Семеновна рассказала
какие-то забавные истории. Хотя, конечно, ничто не могло смягчить
удара.
— Представляете ли вы Виктора пятидесятилетним, или в нем
все-таки была заложена фатальность?
— Ощущение полного сжигания себя было. Эти бесконечные
поездки, немыслимая возбудимость, бывали дни, когда у него
выпадало по шесть концертов. Представляете, как он был после
этого изнурен, выпотрошен. Гонка, гонка, какое там спокойствие...
Хотя, с другой стороны, некоторые актеры, которых мы хорошо
знаем, благополучно живут точно в таком же ритме.
Когда я его упрекал, он говорил, что ему нужно зарабатывать:
«Меня считают звездой, у меня есть поклонницы и поклонники, я
должен быть соответственно одет, а главное — жену одеть». Денег
тогдашним эстрадным звездам платили невероятно мало. Мне запомнились
эти восемь сорок, хотя потом ему
повысили ставку, что вызвало у него огромную радость. Мне же это
казалось жуткой несправедливостью, потому еще, что по тем
временам я получал гораздо больше и, как мне думалось, меньшими
затратами. За песню можно было получить сто—сто пятьдесят
рублей, а если это было в кино, то — сто девяносто, а может быть, и
двести. Витя же за концерт получал восемь сорок, которые, как мы
знали, давались ему невероятными усилиями. И при этом он не
считал возможным сократить свой выход, обязательно отрабатывал
все номера, каждый раз выступал именно двадцать четыре минуты,
хотя порой мог бы обойтись и меньшим временем.
Пятидесятилетним я его не могу представить. Тот ритм для меня
был просто непостижим, но хотя находятся люди, которые живут в
его ритме. Например, Костя Райкин. А вот, скажем, Геннадий
Хазанов старается все рассчитывать, он даже знает, что будет делать
через два-три года, думает о себе не только как исполнитель, но еще
и как критик, как теоретик эстрады.
Витя же никаким прогнозам не поддавался. Вообще создавалось
такое ощущение, что как-то влиять на него удавалось только мне
одному. Так многие говорили. Может быть, это происходило
действительно оттого, что он чувствовал мою любовь к себе. Хотя
моя жена Марина, знавшая Витю превосходно, считает, что повлиять
на Чистякова никто бы не смог, что он не мог бы изменить этот свой
ритм.
— Кто же озвучивал пластинку «Голубой щенок»?
— Градский, Боярский, Миронов, Алиса Фрейндлих... Но все эти
роли делались для Вити. Он же успел только дома сделать запись
Рыбы-пилы под рояль. Это был опять-таки смертельный номер. Мы
пытались потом с Гладковым спеть так, как он пел, — весь номер он
пел, втягивая воздух внутрь себя. У него это получалось довольно
свободно. Гладков, человек самолюбивый, он и сам поет, попробовал
потом спеть под Чистякова и подавился так, что мы еле-еле привели
его в чувство.
— После гибели Виктора вы сделали пластинку Чистякова. Было
ли это трудно, или все шли вам навстречу, поняв наконец, какой это
был артист?
— Мы начали эту работу сразу после его гибели, сложность была
в том, что нужно было найти пленки, никто специально его не
записывал. В то время к тому же почему-то придавалось
колоссальное значение ОТК, требовали определенных параметров
записи, категорически не пропускали концертные записи. Во всем
мире, наоборот, популярны живые записи, пусть даже кто-то
кашлянул, чихнул. Но у нас все это строго пресекалось.
Мы же принесли некачественный по
техническим параметрам материал, некоторые записи предоставили
просто поклонники Вити, помню, был какой-то моряк, который ходил
за ним и на магнитофон «Яуза» собирал его записи. Этих людей знала
Наташа, она нам их подсказала. Над Витиными записями пришлось
поработать, причем люди со студии грамзаписи делали это
совершенно бескорыстно. Помогло и то, что мы с Мариной раньше
работали на студии «Мелодия», многих там знали. В течение
буквально двух месяцев, по горячим следам, мы все записи собрали,
скомпоновали. Мне кажется, пластинка получилась. Я знаю многих
уважаемых людей, которые после пластинки открыли для себя
Чистякова. Пластинка была сделана с любовью, мы включили в нее
уникальные записи, которые, как в истории с Анной Герман, раньше
почти никто не слышал. Затем мы каким-то образом добыли деньги
на памятник, по-моему, проведя какую-то акцию, хотя это мне
запомнилось плохо. Наталья хотела, чтобы в экспозиции памятника
были как-то использованы гвоздики. Он их очень любил. Наташа
рассказывала, что в ту последнюю ночь он, подписывая фотографии,
еще и разбросал по комнате букет гвоздик, ходил и разбрасывал
цветы... В этом тоже она усматривала какой-то символ. Раньше он
этого никогда не делал...
— Не является ли вымыслом история, что будто бы Чистяков за
кого-то из своих персонажей пел в кино, кого-то дублировал?
— Витя рассказывал что-то подобное. По-моему, снимался
документальный фильм о Лемешеве, где были отрывки из его
произведений. В одной из арий были какие-то ноты, которые певец,
находясь уже в преклонном возрасте, был не в состоянии взять,
мучался-мучался, пытаясь перезаписать музыкальную фонограмму.
И тогда возникла идея попросить Чистякова выполнить такой трюк,
что Виктор проделал блестяще. Во всяком случае, если даже
предположить, что это не что иное, как легенда, то она могла бы
иметь место, потому что Витя делал один к одному любого из своих
персонажей.
— Как на пародиста Чистякова реагировали его звезды?
— Было бы интересно провести отдельное исследование на эту
тему, здесь кроется много неожиданных поворотов. В пародиях
Чистякова что-то было едкое, злое...
— Злое? Многие мои собеседники, наоборот, утверждали, что
это были очень добрые пародии...
— Но он был беспощаден. В текстах пародии, пожалуй, были
нейтральными, хотя встречались и разоблачительные моменты, как,
например, в пародии на Шульженко. Довольно издевательская пародия была на Хиля.
Мы же не всегда могли
знать: затронул ли он исполнителя за больное место или, как
говорится, не попал. Чаще всего Витя «попадал». С одной стороны,
подражал один в один, а с другой — ухватывал какие-то недостатки
и показывал их невероятно гротескно. Николай Сличенко, помнится,
очень сокрушался по поводу Витиных пародий. Полад Бюль-Бюль
Оглы просил, чтобы его Витя не пародировал, ему все это не
нравилось, он говорил, что все это не похоже, а в разговоре со мной
объяснил: «Если уж ты пишешь, то не упоминай фамилии, потому
что для нас Оглы — это мой отец, а Бюль-Бюль означает «соловей»,
это псевдоним». Зачем, мол, отца упоминать, трогать, это святое!
«Меня трогай, отца не трогай». Но я... трогал. Тут уж надо или
совсем не заниматься этим жанром, или себя слушать, потому что,
если все будут говорить: «Это надо — это не надо», тогда не смешно
будет.
— Как Виктор добывал материал для своих пародий?
— У него тоже не все получалось. Действительно, он готовил
номер по семье Мироновых, причем блестяще танцевал, ухватив
манеру танца Андрея Миронова, но вот вокально у него что-то не
получалось, да и я тоже ничего не мог придумать — как это сделать
точно и смешно. Витя говорил, что, не дай Бог, ему слушать свои
персонажи помногу. Он слушал один раз, ему было достаточно,
чтобы «схватить» человека. Доверялся первому впечатлению.
Практически ему был доступен любой голос. Хотя он боялся за свои
связки, даже к врачам обращался, да и я боялся все время за него, мне
его волнение передалось. Кстати, когда он улетал в Харьков, то
обманул главного режиссера Голубовского, придумав какую-то
историю, связанную с тем, что ему надо ложиться в больницу на
обследование. Когда мы пришли с Бардиным в театр, сообщить, что
Виктор погиб, Голубовский закричал: «Какой подлец! Негодяй! Он
же меня обманул! Он же отпрашивался в больницу». По-моему, даже
грозился дать выговор. Посмертно. Никак не мог врубиться, потому
что совсем недавно Витя очень убедительно, подробно рассказывал
ему про свою больную почку, которую необходимо просветить на
совершенно новом аппарате совместного выпуска ФРГ и США, долго
ему морочил голову, совершенно запудрил мозги.
Голубовский, кстати, взял Чистякова в театр еще и по
мистическим соображениям — потому что Витя был похож на
Гоголя. То ли режиссер собирался поставить какую-то пьесу про
Гоголя, то ли у него был комплекс вины перед Николаем
Васильевичем за неважнецкий театр.
— Не будь той майской трагедии, как бы, Юрий, сложилась ваша
судьба?
— Все мое творчество всегда было связано с конкретными
исполнителями, я никогда не работал абстрактно и не умею этого
делать. Поэтому, я уверен, если бы Витя не погиб, моя судьба
сложилась бы совершенно по-другому. Когда я познакомился с ним,
то у меня было ощущение, что я создан для него, что его жанр
невероятно близок мне. В фильме «Мама» он бы точно сыграл
главную роль. Там, кстати, отлично сыграл Михаил Боярский,
которого я же порекомендовал, специально привез из Ленинграда.
По-другому сложилось бы все мое творчество. У нас были с Витей
свои тайные планы. Мы хотели сделать театр, причем думали о
театре в «Эрмитаже», о театре в жанре мюзикла, где Виктор Чистяков
был бы героем. Он хотел серьезно заняться вокалом, танцами. Мы с
ним планировали нашу совместную жизнь. После этого у меня уже
ни с кем не было ничего подобного. Конечно, нельзя гарантировать,
воплотились бы тогда наши планы с Чистяковым или нет, потому что
время было непростое, много было искусственных препятствий. Но я
мечтал работать для него и был связан только с ним.
Витя первый этап своей жизни завершил. Дальше, судя по всему,
начался бы совсем другой этап, и поэтому ощущения, что он должен
погибнуть, не было. Просто он, как, к примеру, Высоцкий, завершил
свой определенный жизненный и творческий этап. Каждый из них в
своем жанре, в своем времени все сказал. В пародии Виктор сделал
все, что мог. Дальше даже он неизбежно бы стал повторяться, и этот
элемент повтора уже появлялся, тем более Чистякова усиленно
тиражировали. Я ему тогда прямо так и говорил:
«Ты — гений пародии! А гений — ни в коем случае не должен
мелькать, не навязывать себя, а появляться внезапно и очень редко».

|Назад|
|Чистяков|
|Концерт|
|Фотографии|
ГОСТЕВАЯ КНИГА
ПОЧТА
|